
«В России плохо развито донорство костного мозга: люди не просвещены» — как сегодня лечат лейкоз
Благодаря Олегу Тинькову и его диагнозу лейкемия стала общественно узнаваемой болезнью. Вместе с гарвардским ученым Андреем Кривцовым, который работает над новым препаратом по борьбе с раком крови, и врачом из НМИЦ гематологии Ириной Лукьяновой, чье отделение отмечает 95-летие, «Москвич Mag» разобрался, как устроена эта болезнь, существует ли лекарство от рака и почему онкологические больные предпочтительно уезжают в Израиль и Германию, а не лечатся в России.
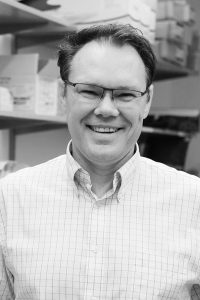
Если объяснять на пальцах, то как выглядит биохимический процесс образования лейкемии?
В человеческом организме порядка 140 типов различных клеток: клетки кожи, мышц, рецепторные — в носу одни, на языке другие, клетки крови, отвечающие за иммунную систему. Каждый тип клеток специализируется на своей работе: одной, редко — двух функциях.
Все клетки крови зарождаются из одной стволовой клетки, и в зависимости от программы они учатся делать свою специальную функцию. Многошаговый процесс: представьте, что человек идет в первый класс, потом во второй, заканчивает школу, идет в институт, там — в магистратуру. То же самое происходит с клетками. В какой-то момент времени — например, в пятом классе — клетку поломали, и нормальный член общества превратился в хулигана, этот хулиган начинает терроризировать всех одноклассников. Онкогенная трансформация заключается в том, что клетка начинает делать то, что ей не дано. В случае рака это сопровождается неконтролируемым делением и приводит к тому, что в крови сломанная клетка начинает вытеснять другие типы клеток из пространства. В других типах рака начинается такая трансформация органов — они не могут выполнять свою функцию. В гемопоэтических раках (лейкозах) сами по себе эти клетки неядовитые: костный мозг, где происходит вся дифференцировка клеток, заполняется болезнетворными бластоидными клетками лейкоза — пространства для нормальных клеток не остается. Лейкозы бывают острые и хронические: в острых все быстро, в хронических — медленно. Есть раки крови, которые находятся в других локациях — миелома, лимфома.
Вы занимаетесь именно детскими лейкемиями — они как-то отличаются от взрослых?
Порядка десяти лет я выяснял механизм, как они образуются — как происходит трансформация гематологических клеток в раковые. Когда мы более или менее представили механизм, как это устроено, то начали искать способ, как можно убивать эти клетки так, чтобы не трогать здоровые клетки организма.
Раньше была классификация, что у детей одни болезни, а у взрослых другие. Когда мы начали использовать молекулярные методы детектирования заболеваний, выяснилось, что в принципе это так, но не совсем. Та лейкемия, которую изучаю я (лейкемия с транслокациями гена MLL-1, когда в клетке в результате хромосомных перестроек возникает такая химера, носитель генетической аномалии — мы называем ее MLL-fusions, — и MLL-химера модифицирует клетку, а та начинает бесконтрольно делиться) — очень агрессивный тип лейкоза. Он бывает как у младенцев до 2 лет, так и у взрослых людей после 70–75. Механизмы очень похожи. Но надо брать в расчет, что я начал заниматься темой как молекулярный биолог, а у врачей по-прежнему свой взгляд: они различаются детские и взрослые болезни.
Как строилась ваша научная карьера?
Свою дипломную работу я делал в Институте молекулярной биологии им. Энгельгардта в Москве в лаборатории Александра Вадимовича Белявского, потом был приглашен в аспирантуру в Мюнхен к профессору Акселю Ульриху (тот самый, который клонировал ген инсулина и инсулинового рецептора), вернулся в Москву защищать кандидатскую диссертацию в лабораторию Всеволода Арсеньевича Ткачука (биохимик, возглавил Институт регенеративной медицины МГУ). После защиты кандидатской диссертации принял предложение на постдок из нью-йоркского центра крови и поехал в США изучать стволовые клетки: как происходит дифференциация клеток крови — какие пути можно найти, чтобы амплифицировать (увеличить) пути получения стволовых клеток крови, нужных для трансплантации. Многие заболевания лечатся переливанием цельной крови или кровепродуктов, а донорской крови всегда не хватает. Поэтому мы работали над решением проблемы — как можно получить продукты кроветворения для переливания «в искусственных условиях, или в пробирке». Надо сказать, что эта проблема до сих пор не имеет решения — человечество зависит от наличия донорской крови. Эту работу я продолжил в маленьком биотех-стартапе: изучал нормальный гемопоэз, или нормальное развитие крови.
Потом я перешел на работу в Бостонский детский госпиталь — в лабораторию, которая изучает детские лейкозы. Для меня это стало путешествием в другой мир: я зашел за занавес, который отделяет норму от болезни — я увидел, что бывает «не так». И когда я погрузился в этот мир — столкнулся с пациентами, — я понял, что нам, нормальным людям, все хорошо, бывает чуть-чуть лучше, чуть-чуть хуже, а этим конкретно плохо, если что-то не сделать, они умрут — и быстро. Это было мотивирующим фактором, благодаря которому я работаю последние два десятилетия.
Когда вы приступили к работе над проблемой лейкемии, какой плацдарм уже был сформирован научным сообществом?
Рассказываю то, как я вижу науку — придумано было очень много: лейкемию пытались лечить достаточно давно — в 1960-х годах приступили к работе над лекарством. Более того, большинство препаратов, которыми лечат лейкозы сейчас, было найдено 50 лет назад в совершенно других условиях. Институт онкологии им. Дана—Фарбера, где я сейчас работаю, отпочковался от Бостонского детского госпиталя в 1947 году с целью лечения детских онкозаболеваний.
Революция в молекулярной медицине произошла в конце 1990-х годов, когда было разработано лекарство, которое называется «Гливек» (Gleevec, или Imatinib). Оно без побочных действий, очень эффективное, лечило определенный тип хронических лейкозов.
С того момента начался новый этап в поиске лекарств. Пришла эпоха молекулярной медицины, когда мы начали думать по-другому — хотели идентифицировать, что сломано в конкретной клетке. Раньше лейкоз был единственным диагнозом, сейчас много разных типов. Мы начали разделять лейкозы по молекулярным поломкам в них, до этого они различались на фенотипическом уровне: как выглядят клетки лейкозов; когда геномная мутация становится причиной болезни, то вид клетки скорее следствие, которое часто определяется субъективно.
В начале нулевых мы начали пытаться понять, в каком лейкозе что сломано и почему именно это механизмы лейкогенеза. Когда ученые, которые этим занимались, более или менее начали оценивать причины лейкозов, то с середины 2010-х началась гонка: мы понимаем, что поломано — будем делать новые типы лекарств, специфичные конкретным изменениям в клетках. За прошедшую с того момента декаду в клинику начали приходить многие новые молекулярные лекарства, которые были бы невозможны без той работы, проделанной в нулевых. Вылечит ли это все лейкозы? Скорее всего, нет, но большую долю осилит. Даже то лекарство, в разработке которого я принимал участие, направлено на определенный тип лейкозов, но оно будет эффективно в менее 100% случаев: если даст эффект в половине случаев — это будет успех. У нас нет волшебного белого порошочка, который лечит все. Я очень хочу сказать, что часто сталкиваюсь с точкой зрения, что у ученых есть лекарство от рака, но они его никому не показывают, потому что хотят, чтобы деньги продолжали поступать для научных исследований. Для меня это кощунственно звучит: если бы у меня было универсальное лекарство от рака, я бы уже стал очень богатым человеком. Чтобы лекарство было, а о нем не сообщали, мне невозможно представить.
Из-за чего в какой-то момент клетка становится раковой?
Мы занимались изучением этого в лаборатории в Бостонском детском госпитале: знали, что есть такая мутация — генетические перестройки. Но не очень понимали, что, собственно, происходит в клетке: почему изменения в одном гене приводят к тому, что клетка получает возможность бесконтрольно делиться. Мы взяли этот ген, вставили в ретровирусный вектор (грубо говоря, с помощью вируса интересующий ген вставляется в ДНК клетки. — Прим. «Москвич Mag»). Тогда мы в основном ставили эксперименты на мышиных моделях — технология позволяла проводить опыты быстрее и легче: мы могли взять мышиную стволовую клетку или клетку-предшественник, вставить туда мутировавший ненормальный ген, который получался с помощью слияния двух хромосом человека, и посмотреть, что с этой клеткой происходит. Это были первые эксперименты: мы выделяли из мышиного костного мозга клетку, которая не могла бесконтрольно делиться, вставляли в нее этот ген, и у нас получалась другая клетка, которая могла бесконечно делиться и которая вызывала лейкемию, если мы обратно транспортировали ее в мышку. Так у нас появилась мышиная модель человеческого заболевания. После этого задались вопросом: с помощью активации каких генов происходит реактивация программы бесконтрольного самообновления? Мы с коллегами идентифицировали группу генов, которая ответственна за самовоспроизведение клетки, потом, естественно, задумались: что делать дальше — каким образом химеры регулируют экспрессию этих генов? Выяснили, что идея химеры взаимодействует с определенным белком, который связывается с химерой, а она — избирательно с ДНК.
Мы скооперировались с коллегами из биотех-стартапа в Кембридже и сделали низкомолекулярный ингибитор фермента DOT1L. Далее мы совместно попытались использовать его для лечения этого типа лейкемии. Но в тот момент у нас этого не получилось, потому что выяснилось, что ингибитор был очень эффективен в лабораторных условиях, но не «в человеке».
Сколько лет длилась эта работа?
С 2004 по 2011 год — порядка семи лет. Дальше я переехал в Нью-Йорк: получил новую работу в Мемориальном онкологическом центре им. Слоуна—Кеттеринга (MSKCC). И мы начали делать другие вещи: помимо использования мышиных моделей, чтобы понять, как заболевание возникает и протекает, мы еще и подразумевали, что будем использовать их для тестирования лекарств. Но быстро выяснили, что это не очень удобно по нескольким причинам, одна из которых то, что заболевание у мыши происходит, условно говоря, в 40 раз быстрее, чем у человека: мышь живет два года, а человек — 80 лет. То терапевтическое воздействие, которое требуется для человека, для мыши нужно гораздо стремительнее — реализовывать это у нас получалось не очень хорошо. Мы все-таки стремились создать модели заболеваний человека, которые отражают все генетическое разнообразие. Потом мы начали брать образцы лейкозов людей и прививать их в мышей, у которых не было иммунной системы (если бы она была, то клетки человека отвергались бы). Так научились растить человеческие лейкозы в мышах, что создало модель для тестирования лекарств против человеческих лейкозов.
Прежде всего нужно было охарактеризовать происходящее: мы возьмем клетки у человека, уколем их в мышку, в мышке появится что-то человеческое — что дальше? Отражает ли модель то, что происходит в организме человека? Порядка двух лет мы пытались выяснить, насколько то, что сконструировано нами в мышке, похоже на случай конкретного пациента. Мы показали, что в некоторых случаях похоже, в других — нет. Поняли, какие модели мы можем использовать для тестирования лекарств, а какие модели нам не дадут результаты, которые будет просто интерпретировать. Используя эти модели, мы начали тестировать лекарства, которые разрабатывались другими лабораториями: они приходили, говорили, в каком случае их препарат должен работать, и если у нас была такая мышка-модель, то перед тем, как они начнут клинические испытания, мы пробовали на ней, вылечат ли эти таблетки мышку — в крови подопытных мышей было человеческое заболевание. Это происходило успешно: мы считаем, что сэкономили очень много времени и денег компаниям, потому что большинство лекарств не работало.
В чем были просчеты?
Мне не всегда интересно, почему что-то не работает, потому что всегда есть то, что работает, а значит, еще больший потенциал к успеху. Я старался концентрироваться на проектах, которые получались. Конечно, можно сказать, что можно было бы разобраться с тем, что не работает, сделать из этого то, что работает, но у меня на все бы не хватило времени. В конце концов, успех приходит за то, что получилось.
Каков объем компаний, которые одновременно разрабатывают лекарства против лейкемии?
Масштабы колоссальные. В том месте в Нью-Йорке, где я работал — большой известный госпиталь MSKCC — было порядка пяти лабораторий, которые пытались искать лекарства от своих специальных типов лейкозов. Потом в 2016 году я вернулся обратно в Бостон — госпиталь, где я уже работал, пригласил нас на свою программу. Тоже как минимум полдесятка лабораторий, только в одном госпитале, а там пять Гарвардских госпиталей. Скажем, 20 лабораторий города занимаются сходной тематикой: изучают лейкозы разных типов, чтобы не делать одно и то же — заболеваний много, бессмысленно всем работать над одной болезнью. Самое главное, что все сотрудничают между собой: делятся информацией, технологиями и уникальными реагентами.
Онкология с середины 2000-х по 2020 год была гигантским рынком и по частным, и по государственным инвестициям. Весь онкологический рынок в смысле инвестиций оценивался примерно в 3 млрд долларов США в год. Но в последние два с половиной года все изменилось — стало медленнее. При этом ковид в науке произвел свою мини-революцию: те вещи, которые люди раньше не знали — что происходит при старении организма, — ковид подсветил. Начинается новое направление в изучении старения организма. Все мы помним, что ковид был более опасен для людей старшего возраста, ученые попытались выяснить, почему — есть прогресс в этой области, думаю, в ближайшие пару лет мы узнаем много интересного. Тем не менее онкологический рынок больных по-прежнему большой: количество пациентов продолжает расти с каждым годом — это происходит в том числе из-за внешних факторов, например из-за загрязнения окружающей среды, особенно микропластиком.
Что за препарат от рака крови вы готовите сейчас?
Мы разрабатываем лекарство от генетически определенного типа лейкоза: с поломками гена MLL1. Благодаря ингибитору, который разрушает взаимодействие белкового продукта гена MLL1 с белком Menin, мы можем предотвратить связывание MLL-химер с ДНК. При разрушении взаимодействия химер с ДНК лейкозные клетки умирают, при этом для подавляющего большинства нормальных клеток этот препарат абсолютно безвреден.
Во время работы мы поняли, что этот препарат также имеет активности и в других онкозаболеваниях, теперь пытаемся выяснить, каким образом это работает. Сейчас опубликовали несколько работ в этом направлении. Наш коллектив работает над созданием моделей других заболеваний крови. Для этого мы также прививаем клетки пациентов мышам, у которых генетически удалена часть иммунной системы. Такие заболевания — это предлейкозное состояние. Если не предпринять терапевтических действий, то с высокой вероятностью у пациентов разовьется острый лейкоз.
Используя разрабатываемые модели предлейкозного состояния, мы хотим протестировать, сможем ли предотвратить развитие лейкоза у этих пациентов, если будем им давать придуманный нами ингибитор MLL1-Menin. Это называется «предклинические испытания» — мы показываем, что это работает не просто на клеточках, а на конкретных образцах пациентов с их заболеваниями.
Когда препарат выйдет на рынок?
В современных условиях планирование больше, чем на пару месяцев, сложно производить. Я думаю, все будет хорошо: протекать так, как мы планируем. Если дать конкретное время — один год, то следующий вопрос будет: «А что произойдет через этот год?» Я не смогу на него ответить. Пока у нас что-то получается — новые интересные результаты. Основной критерий в нашей работе — должен быть какой-то позитивный результат. Если не работает, то отходим от этого, отдавая разобраться с проблемами другим. Что у нас получится, мы не знаем, но обязательно что-то получится. Мы пытаемся отвечать на важные вопросы, а для человека важно быть здоровым — это то, что направляет нас в наших исследованиях.

Как сейчас лечат лейкемию в России?
Если обратиться к российским рекомендациям по лечению лейкозов и сравнить их с европейскими и американскими, то мы не увидим существенных отличий. Есть свои разработанные протоколы терапии. Последние десятилетия в России активно развивается трансплантация гемопоэтических стволовых клеток крови от родственных и неродственных доноров, проводится иммунотерапия, плюс медленными, но верными шагами мы идем к развитию CAR-T-клеточной терапии (при этом способе лечения некоторых лейкозов собственные лейкоциты пациента генетически программируются на уничтожение раковых клеток. — Прим. «Москвич Mag»).
Какой этап болезни самый сложный для пациента и врача?
Можно разделить этапы терапии на индукцию — введение в ремиссию, консолидацию — закрепление достигнутого эффекта, поддерживающую терапию и этап трансплантации костного мозга. Каждый этап особенный, но самый сложный — первый. В момент выявления острого лейкоза пациенты, как правило, поступают в тяжелых состояниях: угнетены все нормальные ростки кроветворения, нет тромбоцитов, которые предостерегают организм от кровотечений, угрожающих жизни, нет нормально функционирующих лейкоцитов — они защищают нас от инфекций, нет эритроцитов — пациенты в анемии, требуют регулярных заместительных трансфузий компонентов крови, потому что нормальный процесс угнетен опухолью, накопленной в костном мозге. Проводя индукционную химиотерапию, мы стараемся уничтожить опухоль, но страдают и здоровые клетки. Все бактерии, которые с нами жили и развивались и при нормальном иммунитете и клеточном составе крови не вызывали инфекционных осложнений, становятся для нас врагами — пациент нуждается в протезировании функции лейкоцитов антимикробной терапией. В этот период также обостряются хронические заболевания. Первый месяц выхаживания — время, когда мы ждем результата от химиотерапии — самый сложный для пациента. Проводя такие курсы, чтобы закрепить ремиссию, мы также встречаемся с ничуть не меньшим количеством инфекционных проблем и осложнений, подобным образом проходит и трансплантация гемопоэтических стволовых клеток, когда интенсивным кондиционированием мы выжигаем в костном мозге все, чтобы пересадить донорские стволовые клетки, ждем, когда они приживутся, сформируется новая иммунная система — этот период также сопровождается массой различных осложнений.
Каковы шансы, что случится ремиссия?
Это зависит от характеристики опухолевых клеток — варианта лейкоза: при благоприятном варианте вероятность достичь ремиссию составляет 90–95%, при неблагоприятном варианте только у половины пациентов терапия эффективна. Для острых миелоидных лейкозов, по российским протоколам, в 85% случаев мы достигаем ремиссию, для лимфобластных лейкозов — примерно такая же цифра.
В какие альтернативные формы лечения вы верите?
Альтернативных методов лечения, к сожалению, не существует! Никакие голодания, сода, клубника, свекла — ничего подобного. Есть разработанные программы терапии — только это и выполнение трансплантации костного мозга помогает в лечении лейкемии.
Почему все ездят лечить рак в Израиль? В России у специалистов не хватает квалификации?
На самом деле, чтобы успешно лечить лейкемию, нужно, чтобы были качественная диагностика, квалифицированная команда, сопутствующая адекватная лекарственная и сопроводительная терапия (все, от помощи психолога до коррекции тошноты. — Прим. «Москвич Mag»), доноры компонентов крови (эритроцитов, тромбоцитов, плазмы), адекватная микробиологическая лаборатория, современные антибактериальные препараты, команда гематологов, анестезиологов и трансплантологов, сами доноры костного мозга. К сожалению, в России не хватает специализированных крупных центров по лечению гематологических заболеваний (они есть только в 11 субъектах). Не во всех клиниках можно выполнить необходимый перечень обследований, чтобы правильно установить вариант острого лейкоза, а от правильной диагностики зависит выбор терапии для каждого пациента. В России плохо развито донорство костного мозга: люди не просвещены. Потенциальные доноры не понимают, что сдать стволовые клетки или костный мозг — абсолютно безобидная для них процедура. Или, войдя в регистр и подойдя пациенту как донор, они в итоге отказываются быть донорами. Зачем тогда вступали? Нужно просвещать общество — в этом направлении ведется работа, в том числе благотворительными организациями. У нас очень мало специализированных центров, которые могли бы вести пациентов после трансплантации, лечить их инфекционные осложнения.
Я была в большой израильской клинике в Хайфе: те же самые лаборатории, команда, принципы работы, как и в нашем специализированном центре. Чем они от нас отличаются: своей базой данных доноров — могут быстро найти нужный биоматериал. У нас проблема в том, что мы умеем выхаживать пациента, но не можем быстро решить вопрос с трансплантацией: очень маленький регистр и мало трансплантационных центров — не хватает на всю Россию. Чтобы привести донора из-за границы, нужно примерно 17–25 тыс. евро: не каждый пациент может это оплатить, а государство не финансирует, плюс обследование даже российского донора ложится либо на плечи самого пациента, либо благотворительных фондов. Повторюсь: в Израиле на обучении я не увидела прорывных технологий, их козырь — исключительно быстрый поиск донора. То же самое с немецкими клиниками. У нас те же препараты, как и за рубежом, но не везде они в наличии — можно по пальцам пересчитать те учреждения, которые способны выходить больного с острым лейкозом, нет команды, гематологической реанимации, адекватной трансфузионной поддержки.
Сейчас мы, команда центра, пытаемся выстроить в России логистику по диагностике, обучать персонал работать с больными с лейкозами. Врачи, не имея сопроводительной терапии, пациентов теряют — и теряют оптимизм при виде больного с острым лейкозом. Должен быть грамотный персонал, и руководство клиники должно быть заинтересовано в развитии направления. Пока же, понимая, что большинство пациентов гибнут на ранних этапах, вкладывать финансы в больного никто кто хочет. Должны быть выработаны алгоритмы работы: пациент поступает — тут команда гематологов, реаниматологов, трансфузиологов, микробиологов и так далее. Когда из этой команды выпадает звено, нарушается цепочка: пациенты от этого, к сожалению, страдают.
Насколько вредна химиотерапия?
Нет понятия степени вредности. Для каждого варианта острого лейкоза есть доказанные эффективные схемы химиотерапии, которые позволяют как достигать ремиссии, так и сохранить ее на долгое время. Не каждому пациенту показана трансплантация стволовых клеток крови — все зависит от того, какой прогноз у заболевания, насколько опухоль химиочувствительна. Для пожилых пациентов, которые не могут перенести интенсивную стандартную химиотерапию, или для пациентов с сопутствующей патологией разработаны дополнительные таргетные (направленные на цель) препараты, которые в сочетании с химиотерапией или гипометилирующими веществами позволяют достичь таких же результатов, как и при выполнении стандартной интенсивной терапии.
Пятьдесят лет мы и наши зарубежные коллеги применяем схемы на основе цитарабина и антрациклиновых антибиотиков, используя их в различных комбинациях, включаем дополнительные таргетные и гипометилирующие препараты, а также трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток и тем самым из года в год улучшаем результаты терапии острых лейкозов. Сейчас результаты лечения больных острыми лейкозами в крупных специализированных центрах России абсолютно сопоставимы с результатами наших зарубежных коллег. Да, таких центров у нас мало, но мы стараемся передавать свой опыт и оптимизм нашим коллегам из регионов: мало кто хочет заниматься острыми лейкозами, понимая, что это сложное заболевание.


